Комментарий #11709414
Ответы

Пазу#
Было бы из-за чего.Главное - два интеллигента не подрались, и то хорошо
А это, казалось бы, черта интеллигентности.Умение продуктивно и доброжелательно вести дискуссии всегда было редкостью, к сожалению.
Из книги Д.С. Лихачёва "Письма о добром и прекрасном".
Многие думают: интеллигентный человек – это тот, который много читал, получил хорошее образование (и даже по преимуществу гуманитарное), много путешествовал, знает несколько языков. А между тем можно иметь все это и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим не обладать в большой степени, а быть все-таки внутренне интеллигентным человеком.
<...>
Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь другому, беречь природу, не мусорить вокруг себя – не мусорить окурками или руганью, дурными идеями (это тоже мусор, и еще какой!).
Я знал на русском Севере крестьян, которые были по-настоящему интеллигентны. Они соблюдали удивительную чистоту в своих домах, умели ценить хорошие песни, умели рассказывать «бывальщину» (то есть то, что произошло с ними или другими), жили упорядоченным бытом, были гостеприимны и приветливы, с пониманием относились и к чужому горю, и к чужой радости.
Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к людям.
Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать – тренировать душевные силы, как тренируют и физические. А. тренировка возможна и необходима в любых условиях.
<...>
Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь другому, беречь природу, не мусорить вокруг себя – не мусорить окурками или руганью, дурными идеями (это тоже мусор, и еще какой!).
Я знал на русском Севере крестьян, которые были по-настоящему интеллигентны. Они соблюдали удивительную чистоту в своих домах, умели ценить хорошие песни, умели рассказывать «бывальщину» (то есть то, что произошло с ними или другими), жили упорядоченным бытом, были гостеприимны и приветливы, с пониманием относились и к чужому горю, и к чужой радости.
Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к людям.
Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать – тренировать душевные силы, как тренируют и физические. А. тренировка возможна и необходима в любых условиях.
Это стандартный способ анализа произведения в контексте выявления смыслов. Логика следующая. Автор имел интенции выразить себя или сообщить что-то читателям, а для этого он особым образом выстраивает повествование, использует различные приёмы и проч. Литературовед в таком случае идёт обратным путём расшифровки. Конечно, при учёте материала, который другие узкие специалисты (биографы, текстологи, архивисты, музейщики, историки (доктора, криминалисты, юристы, археологи и проч.), стилисты и пользователи сравнительно-исторического метода и вычислительных технологий и программ) вывели дедуктивным методом на основе вещественных данных.Такое ощущение, что ты больше тяготеешь к индукции, а я -- к дедукции.
У нас разный подход. Понимая этику и философию автора ты будешь улавливать или понимать суть произведения в целом, но без формального подхода частности будут ускользать. Тем более, для такого подхода недостаточно знать философию и её историю, а также некоторые сведения о мировоззрении автора, нужно обладать очень широким кругозором по биографии и беллетристике автора, образе автора в мемуарах современников.Мне главное -- чётко понимать его этику и философию, вычленять только суть происходящих событий: на основе этого я могу уже моделировать реальность, выявлять закономерности, делать прогнозы и т.д.
Кстати, о религиозном мировоззрении Достоевского я уже когда-то писал сжатую выдержку в рамках дискуссии. /comments/11424587
В данном же случае, я считаю, что нужно иметь конкретные данные о вероисповедании и культурно-философском контексте авторов. Я имел счастье общаться с японцами. Молодые (25-30+) японцы в буддизме дальше стандартной обрядовой стороны и общих сведений не ушли. По менталитету почти европейцы. Разве что старый профессор-достоевсковед, будучи христианином, открывал бездну всего о синтоизме. К несчастью, о буддизме поговорить с ним не довелось.
Так произведение строится как взаимосвязь содержательных и формальных (режиссёрский и визуальный план) средств. Я же не из воздуха пишу о силе слов?Что имеем.Тебе же интересно во всех тонкостях глубоко погружаться в сюжет произведения, улавливать детали, их взаимосвязи, проводить внутренние и внешние параллели.
1) Тема писем и переписки центральная в произведении. И эта концепция максимально используется автором. Письмо в произведении не заменишь телефоном, чтобы получить тот же эффект и смысловое наполнение.
2) Сила искреннего слова - наиболее повторяющийся концепт франшизы (концептуальный анализ). Примеры (если ты искренно всё выскажешь, твои чувства достигнут адресата; если вы станете общаться сами, без кукол, то так будет лучше, ведь ты хочешь сказать ему то, что на душе и т.д.). В первой рецензии больше примеров. Он же самый популярный в комментариях создателей. Второй по популярности - преимущество письменной формы изложения перед словесной. Он наиболее прямолинейно подаётся в фильме, да ещё и 2 раза (ещё 2 завуалированно или перифразом). Собственно, побочные истории реализуют различные способы применения писем: прямая подача письма, переписка, посмертное письмо или отложенное письмо. Разве что истории с драматургом и звездочётом используют прямое общение. Третий не помню, но пятый, кажется, то, что слова можно интерпретировать/понимать по-разному, но это преимущественно в первой половине сериала. Как только Вайолет развивает эмоциональный интеллект, то это уходит на 2 план.
3) Разбор некоторых ситуаций, обосновывающих итоговый вывод уже расписывал. Да и в рецензиях всё есть со скриншотами диалогов и сцен.
()Единственно, есть ещё один пласт, который я, с одной стороны, тоже разобрал в рецензии на сериал в плане прогресса образа Вайолет, а с другой, опустил второстепенных персонажей. Вайолет хочет понять чувства людей, но особенно её интересует понятие любви, и по работе ей попадаются ситуации, которые являют разные грани любви: любовь брата и сестры, любовь отца к дочери и дочери к матери, любовь молодожёнов и любовь солдата к невесте. А ещё их с Вайолет связывает тема потери. Но это драматургический план развития образа, а не смысловой.
В общем, я стараюсь опираться в выводах на материал произведения.
Кстати, Гига-чат со мной согласен.

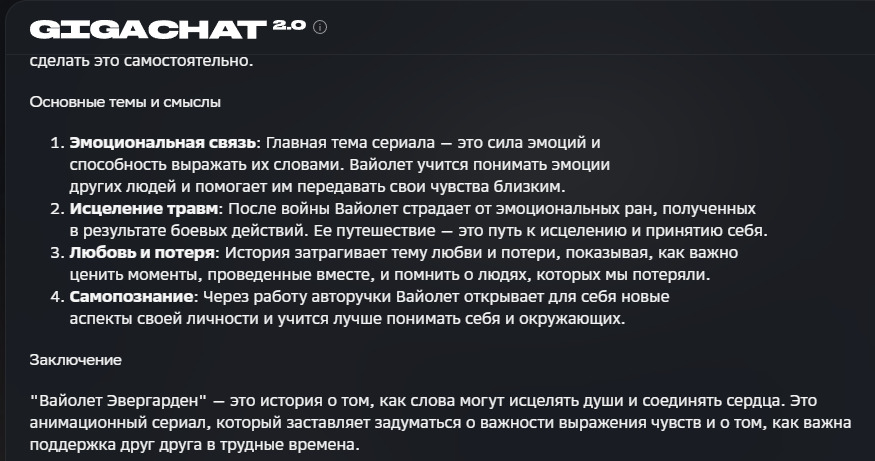
Но у меня есть подозрение, что для ответа он использует и мою статью.
А вот Алиса даёт очень интересную сюжетную аналогию.

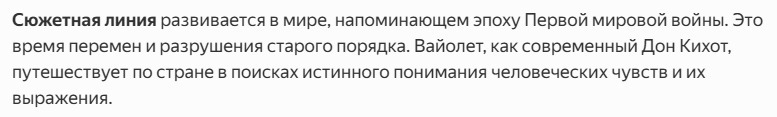
По обеим темам согласен. Только от себя добавлю, что между травлей и социализацией было осознания героем страданий, которые он принёс Сёко. Без этого компонента тема социализации в произведении идёт лесом, ибо травля - это тоже форма социализации (динамики в социальной иерархии) в малой группе через дискриминацию инаковых или чужих, что тоже показано в фильме, а Сёко после таймскипа показана более-менее социализированной, но далее идёт тема исправления ошибок и прощения грехов.Основываясь на собственных "необычных" трактовках сострадания и используя, в основном, индукцию, я легко смогу обосновать, что "Форма голоса" не про какое-то абстрактное / придуманное "сострадание" (мы же не все здесь монахи-буддисты, а массовая аудитория), а про банальный школьный буллинг и его конкретные последствия. Также я справедливо выделю вторую тему: социализация людей с физическими особенностями в детских коллективах.
Обозначу основной посыл: буллинг -- это плохо, социализация -- это хорошо. Причём здесь непонятное "сострадание"? К чему эти нелепые "высокие материи"?
Нет, для этого не хватает соответствующих данных. В произведении на этом попросту нет акцента, за исключением сюжетной ветки двух подружек, но в фильме с этим проблемы.Подмечу, что "сила слов" и "мужество быть искренним" также подойдут в качестве посыла, как и в подавляющем большинстве других произведений.)
Мне кажется, это камень в огород твоей методологии. Конечно, можно любое аниме интерпретировать сквозь призму буддисткой философии. Но я бы применял это, когда есть к таковому показания: чёткое указание в комментариях, цитаты, перифразы, аллюзии, визуальные символы в самом произведении и проч.Самое смешное, что на определённом уровне я буду абсолютно прав / убедителен / обоснован. Однако часто уместно выделять и более высокий уровень, особенно, когда он явно есть. Хотя бы из-за соображений каруны по отношению к людям, которые этот слой не смогли разглядеть )).
Кстати, Ojiisan no LampДедушкина лампа к такому как раз располагает. Я сделал анализ через призму одной концепции, но можно проследить её генезис до диалога синтоизма и буддизма в японской культуре и сделать более широкий и основательный культурологический анализ.
Странно, что одно с другим не вяжется. Я же и делал весь этот анализ для того, чтобы на его основе сделать вывод.Опять же, только выводы. Сам драматургический разбор, как обычно, на высоком уровне, какие-то мелочи и вкусовщина не в счёт.

Пазу#
P.S. Ещё немного о Достоевском.
Конечно, при этом Раскольников не сострадает старушке, потому что записал её в разряд "тварей дрожащих", что (помимо заведомого причисления себя к "право имеющим") показывает его гордыню, ибо это совершенно нейтральная фраза из Библии означающая "раба божьего". Где-то в переписке был момент о гордыне, который я не успел прокомментировать, а сейчас не найду. По поводу гордыни как корня преступления Раскольникова. Всё верно.
Собственно, величие этого романа, помимо прочего, в том, что Достоевский изображает дилемму: добрый и сострадательный Родион Раскольников совершает убийство. Собственно, без понимания того, что в Роде есть добро, мы приходим к трактовкам Ахматовой и Набокова.
Тут логика следующая. Раскольников именно со-страдает Мармеладову и Соне, Дуне, Лизавете, девочке на бульваре. Сострадание, и его безрезультатность в этом несправедливом мире озлобляют его. Это очень хорошо видно по тем реакциям эмоциональных качелей во внутренних монологах Раскольникова.Одно могу заявить со 100% уверенностью: Достоевский НИКОГДА (!!!) бы не сказал, что мотивацией Раскольникова в своём поступке было "сострадание". Иначе это будет уже не Достоевский )). Это возвращает меня к мысли о том, что всё-таки ты как-то "необычно" этот термин трактуешь.
спойлер
Собственно, один из мотивов убийства - ограбление. Раскольникову нужны деньги, чтобы спасти сестру, которая приносит себя в жертву ради брата. И хотя украденными деньгами Раскольников не воспользуется, он регулярно помогает (в том числе финансово) Мармеладовым, хотя сам в нужде. Я сам видел, как он за нею наблюдал и следил, только я ему помешал, и он теперь всё ждет, когда я уйду. Вон он теперь отошел маленько, стоит, будто папироску свертывает... Как бы нам ему не дать? Как бы нам ее домой отправить, — подумайте-ка!
Городовой мигом всё понял и сообразил. Толстый господин был, конечно, понятен, оставалась девочка. Служивый нагнулся над нею разглядеть поближе, и искреннее сострадание изобразилось в его чертах.
— Ах, жаль-то как! — сказал он, качая головой, — совсем еще как ребенок. Обманули, это как раз. Послушайте, сударыня, — начал он звать ее, — где изволите проживать? — Девушка открыла усталые и посоловелые глаза, тупо посмотрела на допрашивающих и отмахнулась рукой.
<...>
— Главное, — хлопотал Раскольников, — вот этому подлецу как бы не дать! Ну что ж он еще над ней надругается! Наизусть видно, чего ему хочется; ишь подлец, не отходит!
<...>
— Не беспокойтесь, не дам-с, — решительно сказал усач и отправился вслед за ними.<...>
В эту минуту как будто что-то ужалило Раскольникова; в один миг его как будто перевернуло.
— Послушайте, эй! — закричал он вслед усачу.
Тот оборотился.
— Оставьте! Чего вам? Бросьте! Пусть его позабавится (он указал на франта). Вам-то чего?
Городовой не понимал и смотрел во все глаза. Раскольников засмеялся.
— Э-эх! — проговорил служивый, махнув рукой, и пошел вслед за франтом и за девочкой, вероятно приняв Раскольникова иль за помешанного, или за что-нибудь еще хуже.
«Двадцать копеек мои унес, — злобно проговорил Раскольников, оставшись один. — Ну пусть и с того тоже возьмет да и отпустит с ним девочку, тем и кончится... И чего я ввязался тут помогать! Ну мне ль помогать? Имею ль я право помогать? Да пусть их переглотают друг друга живьем — мне-то чего? И как я смел отдать эти двадцать копеек. Разве они мои?»
Несмотря на эти странные слова, ему стало очень тяжело. Он присел на оставленную скамью. Мысли его были рассеянны... Да и вообще тяжело ему было думать в эту минуту о чем бы то ни было. Он бы хотел совсем забыться, всё забыть, потом проснуться и начать совсем сызнова...
«Бедная девочка!.. — сказал он, посмотрев в опустевший угол скамьи. — Очнется, поплачет, потом мать узнает... Сначала прибьет, а потом высечет, больно и с позором, пожалуй, и сгонит... А не сгонит, так все-таки пронюхают Дарьи Францевны, и начнет шмыгать моя девочка, туда да сюда... Потом тотчас больница (и это всегда у тех, которые у матерей живут очень честных и тихонько от них пошаливают), ну а там... а там опять больница... вино... кабаки... и еще больница... года через два-три — калека, итого житья ее девятнадцать аль восемнадцать лет от роду всего-с... Разве я таких не видал? А как они делались? Да вот всё так и делались... Тьфу! А пусть! Это, говорят, так и следует. Такой процент, говорят, должен уходить каждый год... куда-то... к черту, должно быть, чтоб остальных освежать и им не мешать. Процент! Славные, право, у них эти словечки: они такие успокоительные, научные. Сказано: процент, стало быть, и тревожиться нечего. Вот если бы другое слово, ну тогда... было бы, может быть, беспокойнее... А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадет!.. Не в тот, так в другой?..
Городовой мигом всё понял и сообразил. Толстый господин был, конечно, понятен, оставалась девочка. Служивый нагнулся над нею разглядеть поближе, и искреннее сострадание изобразилось в его чертах.
— Ах, жаль-то как! — сказал он, качая головой, — совсем еще как ребенок. Обманули, это как раз. Послушайте, сударыня, — начал он звать ее, — где изволите проживать? — Девушка открыла усталые и посоловелые глаза, тупо посмотрела на допрашивающих и отмахнулась рукой.
<...>
— Главное, — хлопотал Раскольников, — вот этому подлецу как бы не дать! Ну что ж он еще над ней надругается! Наизусть видно, чего ему хочется; ишь подлец, не отходит!
<...>
— Не беспокойтесь, не дам-с, — решительно сказал усач и отправился вслед за ними.<...>
В эту минуту как будто что-то ужалило Раскольникова; в один миг его как будто перевернуло.
— Послушайте, эй! — закричал он вслед усачу.
Тот оборотился.
— Оставьте! Чего вам? Бросьте! Пусть его позабавится (он указал на франта). Вам-то чего?
Городовой не понимал и смотрел во все глаза. Раскольников засмеялся.
— Э-эх! — проговорил служивый, махнув рукой, и пошел вслед за франтом и за девочкой, вероятно приняв Раскольникова иль за помешанного, или за что-нибудь еще хуже.
«Двадцать копеек мои унес, — злобно проговорил Раскольников, оставшись один. — Ну пусть и с того тоже возьмет да и отпустит с ним девочку, тем и кончится... И чего я ввязался тут помогать! Ну мне ль помогать? Имею ль я право помогать? Да пусть их переглотают друг друга живьем — мне-то чего? И как я смел отдать эти двадцать копеек. Разве они мои?»
Несмотря на эти странные слова, ему стало очень тяжело. Он присел на оставленную скамью. Мысли его были рассеянны... Да и вообще тяжело ему было думать в эту минуту о чем бы то ни было. Он бы хотел совсем забыться, всё забыть, потом проснуться и начать совсем сызнова...
«Бедная девочка!.. — сказал он, посмотрев в опустевший угол скамьи. — Очнется, поплачет, потом мать узнает... Сначала прибьет, а потом высечет, больно и с позором, пожалуй, и сгонит... А не сгонит, так все-таки пронюхают Дарьи Францевны, и начнет шмыгать моя девочка, туда да сюда... Потом тотчас больница (и это всегда у тех, которые у матерей живут очень честных и тихонько от них пошаливают), ну а там... а там опять больница... вино... кабаки... и еще больница... года через два-три — калека, итого житья ее девятнадцать аль восемнадцать лет от роду всего-с... Разве я таких не видал? А как они делались? Да вот всё так и делались... Тьфу! А пусть! Это, говорят, так и следует. Такой процент, говорят, должен уходить каждый год... куда-то... к черту, должно быть, чтоб остальных освежать и им не мешать. Процент! Славные, право, у них эти словечки: они такие успокоительные, научные. Сказано: процент, стало быть, и тревожиться нечего. Вот если бы другое слово, ну тогда... было бы, может быть, беспокойнее... А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадет!.. Не в тот, так в другой?..
Конечно, при этом Раскольников не сострадает старушке, потому что записал её в разряд "тварей дрожащих", что (помимо заведомого причисления себя к "право имеющим") показывает его гордыню, ибо это совершенно нейтральная фраза из Библии означающая "раба божьего". Где-то в переписке был момент о гордыне, который я не успел прокомментировать, а сейчас не найду. По поводу гордыни как корня преступления Раскольникова. Всё верно.
Собственно, величие этого романа, помимо прочего, в том, что Достоевский изображает дилемму: добрый и сострадательный Родион Раскольников совершает убийство. Собственно, без понимания того, что в Роде есть добро, мы приходим к трактовкам Ахматовой и Набокова.
В романе демонстрирует избирательность сострадания у обычного человека, которое в рамках жестокости и "несправедливости" мира озлобляет его сердце, и в то же время сострадание Раскольникова - та черта, которая позволит его душе воскреснуть. В романе есть двойники Раскольникова у которых совесть убита, а сострадание почитается слабостью. Там всё по Ахматовой. Разве что со Свидригайловым осечка.Достоевский... , например, думал, что если убьёшь человека, то станешь Раскольниковым. А мы сейчас знаем, что можно убить пять, десять, сто человек и вечером пойти в театр (Ахматова)
Твой комментарий

@Пазу,Я же специально "презагрузил" дискуссию, предложив свести её к сравнительному анализу / соревнованию двух альтернативных моделей / интерепретаций с применением научных подходов. Т.е. не вдаваться в частности, а держать в фокусе всю картину )).
Тут становится очевидным разница в подходах у циничного администратора-аналитика с упором на относительно точные науки и суровую философию и у более гуманитарно настроенного и тонко чувствующего учителя, особенно любящего драматургический анализ )). Кстати позволь выразить почтение твоему выбору профессии. В каком-то смысле, она является самой важной и ответственной из всех.
Да, благодарю за содержательное и интересное общение. Главное - два интеллигента не подрались, и то хорошо )). Умение продуктивно и доброжелательно вести дискуссии всегда было редкостью, к сожалению.
Я тогда не буду дальше препарировать твои аргументы, ибо наши позиции ясны и устойчивы, по всей видимости. И, да, я уже несколько своих аргументов в части "сострадания" добавил в рецензию ради пущей убедительности.
Пара финишных общих ремарок по итогам.
(1) Разница наших с тобой подходов на примере мотивации Раскольникова.
Я всегда рассматривал Фёдора Михайловича не как писателя, а как христианского философа (ну, и как человека, конечно). В других ракурсах и ипостасях мне не интересно его изучать, включая событийно-драматургические тонкости. Мне главное -- чётко понимать его этику и философию, вычленять только суть происходящих событий: на основе этого я могу уже моделировать реальность, выявлять закономерности, делать прогнозы и т.д. Подробностями владеть важно, но не слишком. Возможно кстати, что сам писатель мыслил схожим образом: тебе виднее, ты явно глубже его изучал.
Тебе же интересно во всех тонкостях глубоко погружаться в сюжет произведения, улавливать детали, их взаимосвязи, проводить внутренние и внешние параллели.
Такое ощущение, что ты больше тяготеешь к индукции, а я -- к дедукции. Хотя, конечно, лучше уметь гармонично задействовать оба подхода и, в добавок, абдукцию ))
Тот же мой (и не только) вывод про гордыню -- преимущественно дедуктивен. Да, конечно, гордыня не была мотивом (как в уголовном праве). Я, как и ФМ, говорили не про него, а про мотивацию (как в психологии / философии). Т.е. гордыня является глубокой первопричиной поступков Раскольникова, корнем его проблемы, его мировоззренческой позицией. Так же как она является "изначальным грехом" и в христианской, и в драхмических традициях (пусть детали / тонкости разнятся). Все остальные "грехи", а также драматургические подробности перепетий Родиона: как он замахнулся топором, какое он надел пальто, как смотрел на Порфирия Петровича, в каком настроении пришёл к Соне -- лишь следствия и не так важны. Хотя их и нужно учитывать, особенно если какое-то из событий противоречит утверждённой ранее "модели".
Итого: я пытался тебе показать, что, в случае с франшизой возможно, ты не увидел "леса за деревьями", высвечивая потенциальную слабость индукции.
Ты же возражал (утрирую), что я себе всё напридумывал. Это потенциальная слабость дедукции.
Каждому потенциально есть, о чём подумать )).
(2) Одно могу заявить со 100% уверенностью: Достоевский НИКОГДА (!!!) бы не сказал, что мотивацией Раскольникова в своём поступке было "сострадание". Иначе это будет уже не Достоевский )). Это возвращает меня к мысли о том, что всё-таки ты как-то "необычно" этот термин трактуешь. Типа как "эмпатию"? Такое "необычное" понимание "сострадания" может рождать у тебя и неприятие этой темы во франшизе. Потому что если принять, что "Форма голоса" про "сострадание", то я более-менее уверен, что 99 условных аналитиков (НЕ художественных критиков -- они в своей массе уж слишком большие оригиналы для такой предсказуемости
Может всё же стоит с этим термином разобраться, чтобы проще было общаться с теми, кто его понимает канонически. А то я, к примеру, вообще до сих пор не понял твоё определение, поскольку ты его даже напрямую не приводил. И это вызывало у меня определённые трудности в процессе общения. Это кстати наглядный пример важности учитывать культурный контекст.
PS
Благодарю за заботу, но учитывая изложенное, мне нет смысла глубоко погружаться в драматургию Достоевского: не в коня корм. Если только ты выложишь мысли ради какой-нибудь другой редкой удачливой души ))
@Пазу,@Пазу